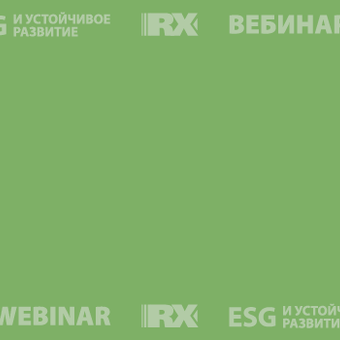
Как бизнесу создать инклюзивную среду внутри компании и стать амбассадором лучших практик
Как бизнесу создать инклюзивную среду внутри компании и стать амбассадором лучших практик во внешнем контуре? Какие выгоды это дает компании и как меняется ее имидж во внешнем контуре? Обсудим на 155-м вебинаре из цикла RAEX-Sustainability.
Что: вебинар о создании инклюзивной среды
Где: онлайн
Когда: 31 июля в 14:00 по московскому времени
В 2024 году всё больше людей обращают внимание на социальные аспекты устойчивого развития, вопросы разнообразия, равенства и инклюзии становятся особенно актуальными.
По мнению экспертов консалтинговой компании BCG, женщины, люди из разных этнических групп, люди с ограниченными возможностями, ветераны, а также представители социально незащищенных слоев общества представляют собой значительный потенциал для развития экономики, который пока используется не полностью.
В России особенно остро стоит вопрос вовлечения бизнеса в реализацию прогрессивных инклюзивных практик и трудоустройства людей с ограниченными возможностями, в том числе получившими инвалидность в трудоспособном возрасте.
Эксперты в сфере инклюзии на вебинаре расскажут о существующих сегодня в России трендах, лучших практиках и опыте.
Спикеры
- Армен Тадевосян , вице-президент ESG Бизнес-клуба ФФБ Президентской академии РАНХиГС, член Координационного комитета проекта «Зеленая инициатива» ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
- Игорь Новиков, сооснователь Everland, директор АНО «Пространство равных возможностей», юрист, эксперт Программы развития ООН, исследователь Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
- Алина Юхневич, руководитель устойчивого развития торговой сети «Пятерочка», член экспертного совета всероссийского отбора инклюзивных практик.
На этой странице вы сможете скачать презентации спикеров вебинара. Мы размещаем их через день после мероприятия. Чтобы получать материалы на почту, регистрируйтесь на вебинары и подключайтесь к трансляции в Zoom.
На этой странице вы сможете посмотреть видеозапись вебинара. Чтобы получать материалы на почту, регистрируйтесь на вебинары и подключайтесь к трансляции в Zoom.
Посмотреть вебинар можно на любой из трех площадок:
• VK Видео
• Rutube
• YouTube
Найдите нужный вебинар по номеру или теме.
Все вебинары есть в сборнике-энциклопедии, а узнать о ближайшем мероприятии вы можете в календаре.
Если у вас возникли трудности с доступом, сообщите нам через форму обратной связи. Там же вы можете предложить свою тему для вебинара.
Подпишитесь на наш телеграм-канал об устойчивом развитии, чтобы не пропускать важные новости.
ВЕДУЩИЙ:
Коллеги, всем добрый день. Рады вас приветствовать на цикле RAEX-Sustainability. Сегодня у нас уже 155-й вебинар. Сегодня мы поговорим на такую интересную тему, давно о ней не рассказывали — про инклюзивную среду. Для этого сегодня с нами целый пул практиков и людей, которые непосредственно с этим сталкиваются в своей повседневной жизни.
Сегодня с нами Армен Тадевосян, вице-президент ESG Бизнес-клуба Президентской академии РАНХиГС и член Координационного комитета проекта «Зеленая инициатива» ассоциации европейского бизнеса.
Также сегодня с нами будет Игорь Новиков, сооснователь проекта Everland, а также директор АНО «Пространство равных возможностей», также юрист и эксперт программы развития ООН и исследователь Высшей школы экономики и бизнеса НИУ ВШЭ.
И Алина Юхневич, руководитель устойчивого развития «Пятерочки» и член экспертного совета Всероссийского отбора инклюзивных практик.
Коллеги с нами сегодня поделятся, как бизнесу создать инклюзивную среду внутри компании, стать амбассадором лучших практиков среди своих либо компаний или во внешнем контуре, также какие выгоды это дает компании и как меняется ее имидж. Ну и постараемся ответить на все волнующие вас вопросы уже в конце вебинара.
Ну и по традиции несколько слов о RAEX и данной площадке. Не так давно, в июле, мы выпустили новый тематический рэнкинг топ-10 компаний, лидирующих по эффективности взаимодействия с заинтересованными сторонами. Так как это является основой устойчивого развития бизнеса, то необходимо выстроить доверительные сотрудничества с партнерами и клиентами. Это можно достичь только благодаря прозрачности и прогнозируемости коммуникации с заинтересованными сторонами. Также это позволяет снизить риск недопонимания и повысить доверие к компании.
Данный тематический рэнкинг проводился на основе определенных критерий. Мы рассматривали такие критерии, как политики и программы по взаимодействию с местными сообществами, долю расходов на развитие местных сообществ по отношению к выручке, также оценили инициативы, направленные на поддержку местных сообществ, а также посмотрели, есть ли у компаний мониторинг социальных и экологических показателей поставщиков и как они взаимодействуют с ними. На данном слайде вы также можете увидеть десятку компаний, которые заняли лидирующие места.
Первое место заслуженно досталось компании «Полюс», затем у нас идёт ПАО «ФосАгро» и компания «Татнефть». Как обычно, более подробные практики описаны также у нас на сайте, где представлена сама методика исследования.
Также хотела бы напомнить о том, что у нас есть индекс Мосбиржи RAEX ESG сбалансированный, который был запущен 1 марта 2023 года. Он состоит из 15 акций-эмитентов с наибольшими значениями из ESG-рэнкинга от агентства RAEX. На момент закрытия торгов составляло 920 пунктов. Ну и, как обычно, самые актуальные значения всегда можно посмотреть, перейдя по ссылке Мосбиржи.
Ну а сейчас хотел бы передать слово нашим спикерам: Армен, Алина, Игорь, большое спасибо, что вы сегодня с нами поделитесь такой интересной темой. Думаю, сегодня среди наших слушателей очень много практиков и непосредственно людей, которые также этим занимаются.
Армен Тадевосян:
Да, здравствуйте, спасибо. Если позволите, я начну тогда. Приветствую всех участников, слушателей вебинара. Хотел бы поблагодарить RAEX за предоставленную площадку. Вообще не сомневаюсь, что все мы являемся постоянными слушателями и участниками этого вебинара и в целом получился очень профессиональный, качественный продукт, потому что как раз-таки на площадке RAEX получается обсуждать самые актуальные темы из повестки устойчивого развития, делиться своим опытом, практиками и так далее. Я думаю, это всем важно, кто бы чем ни занимался IS ESG-компоненты. В любом случае, ESG – это всегда про транспарентность, про обмен мнениями и практиками. Я презентацию свою сам, да, показываю?
ВЕДУЩИЙ:
Да-да-да, я давайте сейчас выйду. Так. Можете уже начинать. Ага, супер.
Армен Тадевосян:
Меня зовут Тадевосян Армен, я работаю в нефтегазовом секторе, но здесь представляю Ассоциацию европейского бизнеса и Президентскую академию.
Смотрите, в рамках Ассоциации европейского бизнеса, не сомневаясь, большинство из вас знакомы с их деятельностью, крупнейшее представительство иностранного бизнеса в России, до сих пор активно взаимодействует с российской стороной. В 2020 году мы создали Координационный комитет проекта «Зеленая инициатива». Видя нарастающий тренд по темам ESG, устойчивого развития, как раз-таки мы попытались собрать большое количество европейских компаний. На тот момент это было 110 компаний, обладающими, скажем так, лучшими на тот момент практиками в устойчивом развитии, в ESG. Именно с тем, чтобы поделиться и с российскими партнерами, и начать диалог с российскими властями, законодательной властью прежде всего, и участвовать в законотворческой деятельности. Вот как раз-таки тот весь законодательный каркас, который создавался по ESG-треку в 2021-2022 году, ну и сейчас представители как раз нашего комитета участвуют в нем.
Президентская академия, видя большой запрос бизнеса на новые специализации, на повышение квалификации существующих экспертов в рамках повестки устойчивого развития, тоже создала обучающие программы дополнительного профессионального образования по устойчивому развитию. У нас порядка десяти уже выпусков, это все люди наши коллеги, эксперты, работающие в крупных российских корпорациях и представляющие регионы и законодательную власть. Как раз-таки на основе вот этих всех выпускников, когда собралась такая критическая масса уже экспертов, мы создали ESG Бизнес клуб, объединенный единственной целью - это продвижение тем устойчивого развития в стране, чем активно и занимаемся.
Значит, переходя к непосредственно теме сегодняшнего вебинара, что хочется сказать, что за последние два года, по сути, сфера устойчивого развития Россия видела столько взлетов и падений, как и ни одна другая, наверное, сфера. И к середине 2023 года мы в своей деятельности, я говорю и как от лица компании, но и как и от лица вот такого крупного экспертного комьюнити, который каждодневно взаимодействует с российскими компаниями, Мы видим такой запрос на, скажем так, некое переосмысление и некую переформулировку тех концепций ESG, которые сегодня существуют. И в России, конечно, прежде всего вот это переосмысление, оно будет сделано с фокусом на человекоориентированный бизнес. В Европе мы тоже, конечно, видим в европейских компаниях, что фокус на S-компоненту он усиливается. Это связано прежде всего с чем? Что, конечно, S-компоненты не требуют таких многомиллионных технологий и затрат, с одной стороны, и не требуют, в общем-то, глубокого международного сотрудничества. Это, в общем-то то, что лежит на поверхности. В России это тоже происходит, но в том числе и из-за чего происходит, что мы видим, что сегодня страна, конечно, взяла на себя задачу какой-то в каком-то смысле помочь в преодолении последствий некоторых кризисов, которые случились и преодолеть. Помочь нужно прежде всего населению, но также и экспертам, специалистам, которые есть на сегодняшнем рынке. Их нужно удержать. Также помочь незащищённым категориям населения. Тут как раз-таки инклюзия тоже начинает потихоньку превалировать.
Сегодня российские компании, если не пересматривают, то во всяком случае актуализируют свои ESG-стратегии, и эта актуализация, она происходит, по нашему мнению, на основе тех уникальных ESG-тенденций, которые существуют в России. Прежде всего, мы уходим от этого слепого копирования западных практик, мы разрабатываем собственные стандарты, собственные методологии, и в большинстве случаев они основываются на национальных приоритетах. Кроме этого, одним из национальных приоритетов потихоньку становится тоже работа с трудовыми резервами. Нужно их удержать, нужно их приумножить. И вот здесь как раз-таки S-компонента начинает набирать обороты.
Еще одна интересная концепция, которая меняется, по нашему мнению, это изменение концепции территорий присутствия к территории ответственности. Сегодня компании больше думают о качественном развитии тех территорий, где они работают. И именно это используют как свое конкурентное преимущество, в том числе для привлечения трудовых резервов. А это сегодня очень актуальная тема.
Ну и в целом государство и законодательная база нас к этому в каком-то смысле подталкивает. Мы все помним майский указ Президента об обновленных целях развития страны до 2030-го с перспективой 2036-го года, где социальная сфера очень большое внимание к себе привлекла.
Сегодня мы отмечаем такой тренд, что не только, что даже те компании, которые традиционно тяготели больше, те промышленные компании, которые традиционно тяготели больше к экологической, климатической повестке или корпоративному управлению, которое занимало больше внимания, они сегодня все равно свой фокус потихоньку смещают на S-компоненту.
И для нас сегодня, по сути, сложился такой уникальный момент, когда есть благодатная почва, на которой нам всем вместе как раз стоит и постараться докрутить вот этот социальный аспект до максимально возможного уровня, что пойдет на благо и обществу, и страны в целом.
Все мы прекрасно знаем, существует большое количество исследований, авторитетных экспертов, агентств, которые говорят о пользах внедрения DEI-практик в бизнес. И вот мы, когда общаемся с представителями бизнеса, как раз-таки в образовательных программах и в профессиональных мастер-классах, кик-офф встречах, стараемся подчеркнуть тот момент, что, внедряя инклюзивные практики, вы не только на себя берете часть вот этой вашей социальной ответственности, которую каждый из нас должен реализовывать, но также в этом вы можете найти и пользу для собственного бизнеса, также для финансовой деятельности компании. И вот этот момент очень важно подчеркнуть, очень важно показать и придать ему нужную окраску, что, на наш взгляд, тоже, конечно, заставит бизнес еще больше интегрироваться в повестку инклюзии.
В завершающем слайде, что хочется сказать. Смотрите, в России, конечно, на сегодняшний день большое количество людей с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего в трудоспособном возрасте. И из них сравнительно небольшой процент трудоустроен. И вот здесь как раз наша общая задача помочь интеграции этих людей на трудовой рынок. Если мы посмотрим вообще на сферу DEI, вот 8-10 лет назад, я с 2018 года примерно занимаюсь устойчивым развитием. Многие коллеги здесь намного раньше этим начали заниматься. Если мы так обернемся на 8-10 лет назад ретроспективно, то вспомним, что тогда темой инклюзии занимались не десятки, а единицы компаний и единицы экспертов были на тот момент на рынке, которые могли бы внятно рассказать, что это такое, какие практики существуют.
Сегодня отрадно отметить тот факт, что уже это десятки компаний и сотни, две-три сотни экспертов, прекрасных специалистов в этой области существуют в России, которые знают, как продвигать и как как раз-таки создавать вот эти аутентичные, инклюзивные продукты, которые многие компании могут использовать для себя.
Главнейшим драйвером сегодня, как мы для себя отмечаем развитие инклюзии, интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья на трудовой рынок, может стать кадровый голод и утечка мозгов. Так сложились обстоятельства, что сегодня нам не хватает рук. И государство, и прежде всего компания, они в каком-то смысле даже вынужденно обращают внимание вот на некоторые категории граждан, может быть, на которые раньше они в силу своей неосведомленности, в силу существующих мифов вокруг людей с ограниченными возможностями здоровья, да, они раньше, может быть, некоторым образом игнорировали эти категории. Но сегодня они вынуждены обратить свое внимание туда. И вот сложившаяся ситуация, она, конечно, подтолкнет к развитию инклюзии. И в том числе мы видим, что и государство к этому обращается. Недавно вот была опубликована концепция Минтруда по повышению трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот мы, концепция до 2030 года, но для нас что важно, чтобы государство не смотрело на эту категорию людей как на такой временный инструмент решения сегодняшней проблемы. Вот она, перспектива 3-5 лет, а дальше мы будем жить бизнес as usual. Нет. Для нас крайне важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья стали полноценными участниками трудовых отношений на долгосрочную, на постоянную перспективу. И вот именно поэтому сегодня мы вместе с RAEX постарались собрать на этой площадке с одной стороны представителей таких компаний, таких, скажем так, инкубаторов, лучших инклюзивных практик, которые существуют на рынке. И вот эти социальные проекты, такие как Everland, они помогают крупным корпорациям разобраться, как можно работать, что нужно имплементировать. И плюс они работают как раз-таки непосредственно с гражданами, которым необходима помощь в трудоустройстве, в их интеграции на трудовые рынки. И с другой стороны пригласили представителя крупного бизнеса, который вот на своей практике вам расскажет о том, какие cложности возникают на этом пути и какие выгоды бизнес может получить для себя, интегрируя лучшие инклюзивные практики в свои бизнес-стратегии.
И завершая свое выступление, хотел бы передать слово, я так понимаю, Игорю Новикову. Игорь, слово тебе.
Игорь Новиков:
Да, Армен, спасибо большое. Единственный технический вопрос. Презентацию мне нужно демонстрировать с экрана или это как…?
ВЕДУЩИЙ:
Давайте, если у вас есть, можете продемонстрировать. Можно всем ее демонстрировать, если у вас есть.
Игорь Новиков:
Есть.
ВЕДУЩИЙ:
Супер. Все видно.
Игорь Новиков:
Всем добрый день. Еще раз, меня зовут Игорь Новиков. Я эксперт программы развития ООН. Занимаюсь темой социальных практик, в том числе в увлечении уязвимых групп населения на разных уровнях, начиная от локальных сообществ до крупных компаний и государственных образований, в первую очередь СНГ. Несколько лет назад я плотно работал в Киргизии, разрабатывал для них ряд национальных документов, поэтому имею неплохое представление о том, что в мире происходит. Мы выступаем периодически на международных площадках, в том числе у ООН.
ВЕДУЩИЙ:
Игорь, извините, перебью, вот коллеги говорят, что вас плохо слышно.
Игорь Новиков:
Сейчас слышно?
ВЕДУЩИЙ:
Нет, вот прям именно то, что по громкости.
Армен Тадевосян:
Да, Игорь, тебя слышно, но в отдалении немножко, с микрофоном поближе.
Игорь Новиков:
Я максимально близко к микрофону.
Армен Тадевосян:
Вот сейчас лучше.
ВЕДУЩИЙ:
Да, вот лучше, спасибо.
Игорь Новиков:
Я уже представился. Меня зовут Игорь Новиков. Повторю. Эксперт программы развития ООН. Занимаюсь проблемами социального развития, в том числе вовлечения уязвимых групп населения, как на локальном уровне крупных компаний, так и на государственном уровне. Несколько лет назад я работал с Киргизией. Достаточно интересный был опыт. В общем-то, я имею представление о том, что происходит сегодня не только в России, но и в других странах. Поэтому скажу в первую очередь из-за того, что происходит в широком контексте. Кроме того, я являюсь сооснователем Everland. Возможно, кто-то из вас слышал про этот проект.
Everland начиная с 2016 года сам реализует инклюзивные проекты, помогает крупным компаниям в разработке проектов, программ, практик и их реализации. В том числе мы проводим независимые рейтинговые исследования. И, ко всему прочему, я являюсь членом Президентского совета по развитию гражданского общества и права человека. Поэтому, в общем-то то, что я буду рассказывать, это тоже имеет определенную контекстную обремененность.
Тема нашего вебинара сформулирована достаточно инструментально: «Как сделать среду?». Но на самом деле проблема начинается в том, что мы не всегда понимаем ключевые идеи, тренды и подходы, которые вращаются в последнее время вокруг этой темы. Социальное развитие организации и контура компании. Прежде чем говорить непосредственно об инструментальной части, я думаю, нам нужно все-таки кратко осветить, во-первых, глобальные и российские тренды в развитии, пресловутой буквы S, и поговорить немножко о существующих ключевых проблемах. Затем мы уже перейдем к базе, материальной части.
Итак, глобальные тренды. Я думаю, не секрет из отчетов, по крайней мере, Всемирной организации здравоохранения, ESF, ключевых отчетов ООН, Международной организации труда, следует, что мир в общем-то впадает в очень непростую историю, демографическую, с которой мы, по крайней мере, на нашем веку не сталкивались. Во-первых, меняется и количество населения, меняются пропорции, самое главное, меняется качество населения. Лишь немногие страны смогут избежать таких проблем. США, Франция, Австралия, Новая Зеландия вряд ли с ними столкнутся, но Россия и ключевые партнёры нашей страны в ближайшее время будут испытывать очень серьёзные демографические нагрузки.
Как я сказал, во-первых, будет сокращаться население, во-вторых, качество населения будет ухудшаться. Если мы посмотрим на статистику причин ангелизации детей, мы заметим нехорошую тенденцию, вырастает количество невротических уловок. То есть будет все больше появляться молодых людей, потенциальных работников, потребителей с особенностями поведения. И на фоне всего этого сокращается количество койка-мест в соответствующих профильных учреждениях Министерства здравоохранения. То есть мы должны понимать, что наше общество уже меняется и поменяется еще сильнее. И конечно же бизнес должен на это реагировать.
На фоне всего этого, что же происходит с базовыми концепциями, которыми руководствуются компании, в частности, концепция ESG. Тоже не секрет, что с разных концов раздаются возгласы, что от этой концепции стоит отказаться, что она себя не оправдала, в каком-то смысле дискредитировала, потому что есть утверждение, что эта концепция изначально разрабатывалась как дискриминационная для не допуска компаний с развивающихся рынков, глобальным цепочкам создания стоимости. И на этом фоне некоторые компании даже отказываются, либо полностью от ESG, либо от некоторых элементов ESG, в частности от концепции или субконцепции diversity, equity и inclusion. И здесь нужно сказать, что, конечно же, до России все доходит чуть дольше, нежели это происходит в мире, но все же и у нас в стране мы сталкиваемся с такими рассуждениями, а нужно ли нам ESG. Мы к этому еще вернемся, я просто сейчас кратко заявляю о том, что эта тенденция есть, ее нельзя игнорировать.
Вторая глобальная тенденция – это пересмотр конструкции разнообразия, равенства и инклюзии. Вообще ключевым явлением в этой троице всегда было разнообразие. И мы исследовали эффекты положительные и отрицательные эффекты именно разнообразия. Эффекты, в том числе, прямые экономические выгоды. И мы всегда исходили из того, что мы, я имею в виду международные компании, западные компании, что инклюзия и равенство – это всего лишь путь к разнообразию, но не сама цель.
В России так уж повелось, что концепция DEI пошла немножко своим путем. И как раз то, что сейчас происходит в мире с этой троицей, оно в России уже в каком-то смысле прислужилась последние несколько лет. Ключевую роль на себя берет именно инклюзия. То есть сегодня происходит в каком-то смысле переоценка. Мы говорим, что центральное место должна занимать инклюзия, вовлечение неконкурентного работника или потребителя в ту или иную сферу контура компании. И одним из эффектов инклюзии является разнообразие. Но это не единственный положительный и, между прочим, возможно, отрицательный эффект вовлечения.
То есть мы наблюдаем сейчас, как инклюзия все-таки становится ключевым понятием. Почему это важно знать? Потому что весь инструментарий, в том числе исследовательский и консалтинговый, он всегда был рассчитан на работу с разнообразием. Например, Банк Англии пару лет назад провел очень хорошее консалтинговое исследование в части инклюзии и разнообразия, и они заметили, что, в общем-то, у нас нет приемлемых инструментов изучения инклюзии - их нужно создавать. Мы сконцентрировались именно на разнообразии. И это большая проблема.
И третье важное, на что нужно обратить внимание в рамках глобальных трендов, это, собственно, деглобализация. Мы всегда исходили из базовых концептов, которые создавались на уровне международных компаний. Они разносились по всему миру. Их зачастую просто слепо копировали с разной степенью эффективности и даже результативности. Но, тем не менее, это все было как-то едино.
Сегодня мы видим, как появляются локальные попытки создать свои собственные концепции. Одна из самых ярких – это БРИКС. Мы можем посмотреть буквально две недели назад форум БРИКС, который проходил в Москве. Там были сделаны соответствующие заявления. И пока что это не громкие заявления, по крайней мере не обращают на себя внимания компаний. Но нужно принять во внимание, что мы никуда от них не денемся, и если не сейчас, то в ближайшей перспективе, год-два, нам придется обращать внимание на подобного рода инициативы, заявления и в том числе их учить.
Что происходит в России? В России происходит очень интересное.
С одной стороны, мы часто говорим про ESG, но подразумеваем под этим цель устойчивого развития ООН, что, в общем-то, является совершенно разными концепциями, несмотря на то, что они в чем-то и пересекаются. У нас все-таки приоритет имеет положение, которое формулируется на уровне Организации Объединенных Наций, в той риторике, которой это было сделано несколько лет назад. И, как уже было сказано предыдущим спикером, цели национального развития, о которой заявляет Президент. Плюс, пока что игнорируемая, но все-таки очень важная для России региональная повестка.
Большинство компаний переходят с уровня ЦУР нацстратегий, к уровню осознания специфики локальных проблем. Должны понимать, что большинство стран, в которых формируются ключевые концепты, такие как ESG, diversity, equity, inclusion, они все-таки являются несравненно меньшим, нежели Россия, которая один из социально-экономических регионов, вы уж простите, развивать инклюзивную среду в Бурятии и в Санкт-Петербурге, это прям совсем по-разному. И мы должны учитывать эту специфику. Мы только-только к этому подходим.
Следующий немаловажный тренд – ориентация на внутреннюю среду компании. Если мы проанализируем проекты, практики, которые сложились за последние 7 лет среди крупного российского бизнеса, то мы заметим очень четко изменения в последний год, которое произошло именно с поворотом на внутреннюю среду. Компании, конечно же, предпочитали развивать инклюзию вовне. Это безопасно, поскольку не требует серьезных организационных изменений. Это не так рисково с точки зрения влияния на внутреннюю среду организации. И если внутрь компании выпускались какие-то практики, то они были, как говорят иногда, лайтовые, то есть с минимальным риском и обременением.
Сегодня мы видим, что социальное развитие действительно переходит из такой маргинальной сферы, зачастую связанной с пиаром, попыткой войти в рейтинг, в сферу, что называется, дистанциальной важности. И этим всерьез начинают интересоваться и эйчары, и GR. В общем-то, это существенно влияет на подходы к реализации подобных проектов.
Следующий тренд немаловажный. Появляются новые формы, которые свойственны, собственно говоря, только России. О чем идет речь? Во-первых, наши компании осознают, что даже развивая инклюзию внутри компании, какой бы инклюзия ни была, чтобы она собой не представляла, добиться результативности зачастую можно только создав соответствующие партнерства или более развитую сетевую структуру вместе с региональными органами власти, будто центры занятости, министерство социального развития и так далее, социальными предпринимателями и местными НКО. То есть добиться результата, просто заказав какую-то услугу у некоммерческой организации, попытавшись сделать ее самостоятельно, как это было в подавляющем большинстве случаев в предыдущие годы, сегодня уже практически нельзя. И появляются, конечно же, новые инструменты.
Мы можем посмотреть на практики «Сбера», когда создается партнерство в рамках решения сложнейшей социальной задачей с трудоустройством людей с инвалидностью. «СБЕР» создает фонд, привлекает социальных предпринимателей, местное НКО, тем самым он создает подобную сетевую структуру, к которой добавляются в дальнейшем и региональные органы власти. И, конечно же, импакт, да, эффект. И для крупной компании, которая это инициировала, и для иных заинтересованных он, конечно же, кратно возрастает.
Далее обратим внимание на то, что сегодня все чаще буковку S, то есть социальные практики, пытаются ассоциировать с и экологическими практиками, например, «Перекресток», когда он инициирует создание пандусов и предоставление их заинтересованным некоммерческим организациям, созданной из переработанного сырья. С одной стороны, решается проблема обеспечения доступности, с другой стороны решается задача распространения представления о переработке сырья.
Ну и, соответственно, практики GR. Надо сказать, что GR вообще мало обращал внимания на эту специфическую тему социального развития компаний. Сегодня GR крупных компаний все-таки все чаще обращает внимание и понимает наконец-то, что во многом социалка является не просто инструментом GR в решении других задач компаний, но и GR является необходимым инструментом для правильного решения тех стратегических социальных задач, которые стоят перед конкретной компанией. Дальше я на конкретных примерах это расскажу более детально.
Ну и последний тренд – расширение зоны ответственности. После исследований Дины Раджак вообще в западных компаниях во многом стали пересматривать отношения к эффектам собственной ответственности. Она в каком-то смысле расширилась и произошел так называемый уход «от добрых дел» в полноценную оценку социального воздействия долгосрочно.
Мы понимаем, что многие, даже лучшие иногда практики, создают видимость результата и положительных эффектов в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе эффект оказывается отрицательным. Большинство компаний никогда не задумываются о долгосрочных эффектах.
Сегодня, конечно же, лидеры повестки все чаще формулируют в техническом задании запрос, а что же будет через 10 лет местным сообществам или соответствующей целевой аудитории, будь то люди с инвалидностью, будь то люди серебряного возраста и иные уязвимые группы.
Ключевые проблемы. Если мы посмотрим, выйдем все-таки за рамки международного контекста и приземлимся на нашу российскую почву, то мы можем, в общем-то, все проблемы свести к двум: концептуальные и технические.
Концептуальные проблемы частично уже были названы. Нужно ли забыть про ESG и DEI в России, или все-таки мы работаем с этим? Пока что отказываться никто не собирается и на уровне государства, и на уровне крупных компаний, поэтому пока что работает. Появляются попытки, да, новые имена, что-то заменить. Например, веб пытается разработать концепцию 5С, об этом даже докладывали Президенту, но пока что оно не работает. Периодически всплывают на разных около государственных площадках попытки сформулировать новый какой-то концепт. Но опять же, должен повториться, все это пока что попытки и чего-то приемлемого никто не предложил. Поэтому я понимаю, в ближайшей перспективе мы будем работать в рамках сложившейся формы ESG и DEI. Единственное, что конечно же в России понимаются эти концепции несколько иначе, нежели в странах материнских, в которых эти концепции были сформулированы изначально. Во-первых, ESG все-таки ассоциируется, по большому учету, с целями развития ООН, с целями национального развития, сформулированными в указе Президента, и с переходом на региональный уровень, с выявлением тех проблем, которые характерны социально-экономическим регионам присутствия компаний.
Мы ставим на первое место именно вовлечение и рассматриваем вовлечение людей с инвалидностью как лучшую школу формирования динамической способности компании, которая составит конкурентное преимущество на ближайшие десятилетия. Те компании, которые научатся вовлекать уязвимых работников, привлекать их, во-первых, адаптировать, то есть доводить до уровня приемлемой производительности и закреплять на рабочем месте, они, конечно, получат колоссальное конкурентное преимущество. И я должен повториться, лучше всего начинать изучать, что такое вовлечение, как это реализовать в вашей компании именно на людях с инвалидностью.
Следующий вопрос, который до сих пор не имеет в нашей стране, к сожалению, ответа, из-за этого много проблем возникает. Как распределить время вовлечения, потому что вовлекать это хорошо, но за это кто-то должен заплатить. Когда речь идёт о вовлечении нескольких человек на компанию, это не так страшно, а вот когда речь идёт о массовом наёме или реинтеграции возвращенцев в ПФО, когда речь идёт о десятках сотрудников, вот тут издержки приобретают совершенно другую, другое выражение, количественное, и встаёт вопрос, а как это всё правильно разделить, причём не просто между компанией и государством, но и обществом. И чтобы ответить на эти вопросы, нужно в первую очередь, чтобы бизнес начал эти вопросы задавать. На сегодняшний день основные спикеры – это представители государства и некоммерческих организаций, например, Всероссийского общества инвалидов. Бизнес практически не участвует в подобной дискуссии, и я боюсь, что это закончится тем, что в какой-то момент уже на нормативном уровне мы будем видеть решения, предложенные и согласованные между государством и общественными организациями, но далеко не в пользу бизнеса. То есть по сути появится очередной социальный налог на бизнес, и уже с этим сложно будет что-то сделать. Поэтому я всех призываю по возможности включаться в подобного рода дискуссии.
Следующий момент. Мы говорим о лучших практиках, в том числе в заголовке нашего вебинара. Мало задумываемся о том, какую роль, вообще функция лучших практик? По моим наблюдениям, за последние четыре года лучшие практики не сыграли положительные роли в развитии минимума инклюзии в нашей стране. Объясню, с чем это связано. Лучшие практики начинают бездумно копироваться. Но, как вы знаете, повторить Бизнес Найт или Нетфликс или IBM просто невозможно. Лучшую практику нельзя скопировать. Скопировать можно микрорешение или что еще лучше - методологию. Мы сегодня будем об этом говорить. Поэтому, с одной стороны, говорить о лучших практиках нужно, но при этом нужно всегда помнить, что лучшая практика – это не повод для копирования. Даже если практика крупных международных компаний. Необходимо изучать методологию. И вот об этом говорят меньше всего. Мы не найдем описания лучших практик, содержащие именно методологическую часть как компания пришла к тому, что эта практика является лучшей, как минимум для нее.
И последнее. Нужно ли копировать зарубежные подходы практики? Долгое время мы копировали, при этом не задумываясь о том, что копировать нужно умеючи. Это неплохо копировать зарубежный опыт. Его нужно копировать, но это нужно уметь делать. Мы этому не научились на самом деле. Раз. Два. Нужно ли не копировать лучше зарубежный опыт? Нет, не нужно. То есть сейчас маятник качнулся в другую сторону. Все чаще мы слышим, что нужно создавать свое и отказываться от того, что уже создано в мире. Это крайность, которую тоже нужно избегать. Я всех призываю изучать опыт международных компаний, национальных компаний иностранных, задумываться о том, насколько он релевантен нашему контексту и уже принимать решение о том, как в какой мере его копировать. Нельзя ни отказываться, ни нелепо копировать.
Технические проблемы, с которыми мы связаны. Первая ключевая проблема – это дефицит экспертизы и организационной функции. Если мы говорим про инклюзию как часть воздействия на внутреннюю структуру компании, мы должны понимать, что у компании, как у организации, должна быть соответствующая специфическая функция. Например, вовлечение людей с инвалидностью в трудовую деятельность в рамках этой кампании предполагает, что эйчар имеет соответствующую квалификацию, то есть не просто элементарное представление о том, что такое инклюзия, владение базовым словарем, как правильно, как неправильно, как коммуницировать. Нет, эта функция представляет собой достаточно серьезную технологичную вещь, которую нужно осваивать на профессиональном уровне. К сожалению, я не знаю на сегодняшний день, достаточно много примеров, где в компании бы эта функция была разной. Я знаю случаи, где состоялся массовый наем инвалидов, и эта функция сложилась. Но в большинстве компаний этой функции нет.
В чем проблема? Компании зачастую считают, что эту функцию можно передать на аутсорс. Например, тому же Everland или другим некоммерческим организациям или социальным предпринимателям. Я хочу сказать, что это сделать невозможно. Только развивать функцию внутри себя. И то же самое касается экспертизы. Экспертизу нужно накапливать, накапливать на собственном опыте.
Следующая техническая проблема, на которую стоит особо обратить внимание. Мы чуть-чуть научились нанимать людей с инвалидностью в компании так, чтобы это было с минимальным риском, как для компании, так и для самого сотрудника. Но мы ничего не знаем про технологии реинтеграции работников с инвалидностью. То есть тех работников, которые стали инвалидами, будучи сотрудниками компании. Неважно, возвращенцы с СВО, увечья на производстве и так далее. Большинство таких сотрудников теряют работу и не находят новую. Статистика ужасная. И это как раз та точка боли в социальном развитии организации, которую нужно решать буквально уже сейчас.
Следующий момент - это массовый наем работников с инвалидностью. Как я сказал, нанимать немножко мы-то научились, но если речь идет о массовом наеме, то есть о десятках сотрудников с инвалидностью, то это несоизмеримое влияние на ресурсную потребность компании полностью меняет подход, экономику таких проектов. И здесь, конечно же, очень мало устойчивых кейсов, которые говорят, что массовый наем сложился. Я их тоже перечислил. И опять же должен сказать, что, когда я называю компанию, у которой получилось, все бегут и пытаются задать вопросы, а как бы там скопировать. Вот не получится, потому что выводы из анализа каждого из кейсов, например, кейс Банка Тинькофф, сейчас Т-банк, где несколько сотен человек трудоустроили или «Ашан», это все уникальные кейсы, их практически нельзя повторить.
Следующая проблема – это измерение инклюзии. Консалтинговые компании и даже некоторые вузы предлагают компаниям исследования по измерению инклюзии. Я сразу вам хочу сказать, что такие исследования невозможны. Измерить инклюзию нельзя. Это сложные исследования, которые, в общем-то, не сводятся к измерению инклюзии. Поэтому не нужно удивляться, что в итоге вам приносят непонятно какой результат, в котором ничего нельзя сделать. Вот как сформулировать ТЗ на предварительное исследование в области DEI для конкретной компании, мы тоже буквально через минуту поговорим. Но, еще раз говорю, не нужно проводить исследования, которые сейчас очень популярны. Давайте померяем инклюзию вашей компании и скажем, что делать.
Немаловажная проблема заключается еще в переводе социальной проблематики на язык менеджмента. Сейчас появляются проекты, которые описаны в терминах «динамическая способность», «ресурс», «ресурсная потребность» и «бизнес-задача». Еще год назад было практически невозможно встретить подобной риторики, как на уровне НКО, так и на уровне, собственно говоря, компании. Сейчас все чаще встречаем. Я вам хочу сказать, что, наверное, через два года это будет норма - описывать любой социальный проект или практику именно в менеджериальных терминах.
Проблема внутри (нрзб 00:42:37). Для некоторых компаний она, в общем-то, не очевидна. Но еще раз скажу, я наблюдаю компанию разной отраслевой принадлежности и могу сказать, что сейчас говорить об успешном вовлечении работников с инвалидностью в тот или иной контур компании очень сложно. И не каждая компания умеет это делать. Компании, которые научились это делать, зачастую это уникальная история, повезло, хорошо подумали, посидели и получилось. То есть на каком-то уровне технологий и рекомендаций это все не описано. То есть это ждет еще своего решения и описания в подобной форме. Об этом стоит задуматься и об этом, наверное, стоит говорить в том числе и на публичных площадках менеджериальных.
И последняя техническая проблема, я уже упоминал о ней - это практически не вовлеченность GR крупных компаний в решении социальных задач компании. Именно поэтому у нас в законодательстве развиваются социалки очень примитивным образом.
Сегодня мы столкнулись с тем, что, например, Армен упоминал в начале концепцию занятости инвалидов до 2030 года. Я могу сказать, что там как минимум 7 пунктов, которые требуют, критически требуют участия GR крупных компаний. Иначе мы получим в общем-то неприемлемое решение, достаточно неэффективное. Но, насколько я знаю, крупные компании не участвуют в дискуссии относительно этой концепции, хотя никто не мешает. То есть это не та история, когда от нас что-то прячут. Мы просто игнорируем эту тему.
Переходя к инструментальной части, хочу сказать, что есть 10 принципов, как минимум, которые сегодня актуальны для российских компаний, которые хотят развивать инклюзию вовне и особенно внутри компании.
Во-первых, все так называемые S-проекты, программы, практики должны быть встроены в цепочку создания стоимости. Хороший тому пример – проект «Билайн» по вовлечению людей с нарушением зрения, мелкой моторики рук. Этот проект вроде бы как связанный с воздействием на внешнюю среду. «Билайн» разработал соответствующий курс, который позволяет незрячим освоить соответствующие гаджеты и программное обеспечение, которые существенно изменяют их жизнь, позволяют осваивать цифровое пространство, получать образование, работу и так далее. Этот курс потенциально воздействует на десятки тысяч людей с инвалидностью по всей стране. Его аудитория развивается буквально по экспоненте. При этом, в чем особенность этого проекта?
Казалось бы, компания сделала правильную вещь. Она помогла огромной массе людей вовлечься в критически важные, я бы сказал, инициальные сферы цифрового пространства. При этом компания задумывается над вопросом, да, эти люди сейчас смогут интегрироваться в образование, смогут развивать свои навыки, а что дальше? И компания предпринимает усилия подключая в том числе собственный GR для развития возможностей образования людей с нарушением зрения и трудоустройств минимум в той части, чтобы сделать доступные соответствующие сервисы людей с нарушением зрения. Это пример того как компания смотрит стратегически на свой проект. Можно было бы поставить точку, мы помогли людям, но нет. Компания встраивает эту уязвимую группу в цепочку создания стоимости полноценно, помогая стать учеником, работником и потребителем соответствующих услуг.
Следующий принцип - это исследовательский принцип. Наверное, все слышали про «Холторн», исследование, которое было проведено в первой половине 20 века, и существенно изменило подходы к менеджменту.
В нашей стране таких исследований в новой России, начиная с 90-х, не проводилось. В советское время подобные исследования и были. Но сегодня мы не можем обращаться к результату. Изменить эффективность, в целом результативность развития инклюзии в крупных российских компаниях можно только после того, как будут накоплены данные. Сегодня лишь несколько компаний, я могу сказать, что Everland провел 6 исследований в крупных компаниях. Мы знаем еще несколько компаний, которые проводили подобные исследования, но в общем это не более 10-12 компаний в общей сложности на всю страну, которые проводили полноценные исследования в области DEI. Не просто опросы за труд, а именно исследования. Подобные данные помогают кардинальным образом изменить наше представление о том, как подходить, как развивать технологию, какая есть специфика наших отечественных компаний в рамках той или иной отраслевой принадлежности. Именно имея под руками результаты таких исследований, мы можем говорить о том, что способны что-то создавать близкое к национальному контексту, а не просто копировать лучшие практики, в том числе и зарубежные. Поэтому без полноценного исследования компании на данный момент сегодня говорить о создании эффективной практики, и не о реализации какого-то яркого проекта или программы, а именно о создании практики, об изменении внутренней среды компании, не приходится. Яркий пример — это «Пятерочка». Сегодня Алина будет выступать, может расскажет. Данные «Пятёрочки» опубликовало руководство по найму работников с инвалидностью в ритейле. В чем особенность этого руководства?
Во-первых, было проведено достаточно длительное исследование, почти год исследовали компанию, пришли к очень интересным, полезным выводам, которые перевели на язык технических, можно сказать, решений, рекомендаций. Самое главное «Пятёрочка» этим всем поделилась. Она опубликовала эти данные, сделала их открытыми, позволила критиковать, позволила имплементировать, дополнять и прочее. И вот подобные инициативы, они важны, потому что, как я уже сказал, есть компания, которая проводит исследования, но все данные, как правило, прячутся и становятся, остаются неизвестными широкой бизнес-общественности, не вводятся в мировую структуру.
Следующий принцип – это игра в долгую. Мы все ждем очень быстрых эффектов от социального воздействия на внутреннюю среду организации, будь то инклюзия или что-то иное. И вообще все циклы планирования подобных проектов, они, как правило, годичны. И это неправильно. Потому что эффекты, положительные эффекты от инклюзии, они могут быть, но, как правило, речь идет о перспективе 2-3 года. И если вы исходите от идеи быстрого эффекта, то, конечно же, инклюзия не будет для вас привлекательной. В этом плане хороший проект у Банка «Тинькофф». Как я уже сказал, это была во многом яркая инициатива, нанять по всей стране несколько сотен человек с инвалидностью, но уже тогда было понятно, что эта игра действительно в долгую, потому что, во-первых, людей нужно было довести до соответствующего уровня производительности. Для этого нужно было принять определенные технические решения, как это сделать. Во-вторых, нужно было закрепить людей на рабочем месте. А в-третьих, мы же прекрасно понимаем, в такой ситуации находится Банк «Тинькофф» - это цифровые изменения. Постоянно что-то внедряется, и банку приходится отказываться от тех или иных функций, которые вчера выполнял человек. И перед банком постоянно стоит вопрос, что делать, как людей интегрировать дальше, если тальная функция, которую сегодня выполняют работники с инвалидностью, будет уже неактуальна. И, конечно же, положительные эффекты от инклюзии, о которых сегодня говорит Банк «Тинькофф», они возникли не сразу, они возникли только через несколько лет.
И последний принцип – это устраивание в устойчивых партнерских, я бы сказал, шире сетевых структур, в рамках которых практику можно реализовать. Нам кажется, что если мы что-то меняем вовне, создаем инклюзивную среду, то мы можем это сделать самостоятельно, максимум привлечь внешних экспертов. Так было, но сегодня так уже не работает. Правильное воздействие на внутреннюю среду организации, развитие инклюзивной среды, да, возможно только в связке, устойчивой связке со внешними стейкхолдерами - это социальные предприниматели, местные, локальные, некоммерческие организации и региональные органы власти. Проблема заключается в том, что никто не может найти общий язык. Никто не умеет говорить на одном языке. Бизнесу приходится пытаться научиться говорить с НКО и с органами власти. Я должен сразу сказать, инициатива, скорее всего, и будет лежать на бизнесе. Ни НКО, ни органы государственной власти не будут проявлять инициативу. Поэтому здесь стоит задуматься и, конечно же, привлекать GR.
Последнее, на чем я хочу остановиться. Собственно говоря, я сказал, что провести исследование – это первая точка входа. Но легко сказать, сложно сделать. На рынке консалтинговых услуг исследования предлагают разнообразные и все зависит от ТЗ. ТЗ формулируют, конечно же, заказчики компании. Я хочу перечислить здесь ключевые вопросы, поскольку я принимаю часто участие в подобных исследованиях, которые проводит, собственно, Everland своими усилиями, и исследования, которые проводят консалтинговые или научные организации, так или иначе в них участвуют. И всегда я наблюдаю один дефект. Заказчик не может сформулировать правильно ТЗ. Чтобы это случилось, нужно ответить на вот эти 10 вопросов.
Какая ключевая вовлекаемая группа? Сегодня эти группы в нашей стране очень сильно отличаются от вовлекаемых групп, например, в США или Европе. У нас своя специфика. Более того, в России перечень этих групп меняется. Сегодня, например, той же концепции занятости инвалидов появилась в качестве уязвимой группы, на которую стоит обратить внимание, еще сотрудники, у которых дети с инвалидностью. Раньше такие сотрудники не относились к уязвимой группе, сегодня относятся. То есть, если вы предпринимаете какие-то усилия, создаете программы, рассчитанные на таких сотрудников, то это уже ESG. И очень важный фокус. Как между собой уязвимые группы взаимодействуют в процессе вовлечения? Как они взаимодействуют с другими группами, представленными в компании? Допустим, если вы пытаетесь трудоустроить людей серебряного (нрзб 00:54:34) инвалидов, может ли это закончиться конфликтом или нет? Какова сфера вовлечения? Все-таки мы говорим о внутренней среде компании, допустим, трудоустройство людей с инвалидностью или иной способ вовлечения их в цепочку создания стоимости или это внешняя среда, когда вы, допустим, создаете доступные продукты, услуги, доступную среду и тем самым вовлекаете уязвимую группу в потребление, что немаловажно.
И что первично для вас? Сделать сначала доступное потребление и затем переходить к вовлечению. Можно ли это делать одновременно и прочее? Каждая компания сама должна ответить на эти вопросы в зависимости от собственной бизнес-модели другой специфики.
Формы, инструменты вовлечения могут быть очень разные. Как я уже сказал, что есть практика копировать. Вот «Тинькофф» Банк нанял несколько сотен инвалидов, давайте мы попробуем. Вот так делать нельзя, потому что есть ряд ключевых параметров, которые нужно учесть, как минимум в бизнес-модели. Ваша отраслевая принадлежность и иные параметры они позволяют определить концептуальное решение и выбрать форму инклюзии и инструменты вовлечения, которые релевантны в вашей ситуации. Чем ближе форма и инструменты, тем результативнее окажется проект, программа, и больше шансов, что практика сложится.
Каков внутренний задел компании? Ведь многие считают, что мы никогда не сталкивались с инклюзией, мы не знаем, что это такое, вообще-то это не про нас, мы начинаем с чистого листа. Это неправда. В каждой компании есть люди со скрытой инвалидностью, есть задел. Зачастую компании не знают просто об этих практиках внутренних, сложившихся стихийно, они не артикулируются. Их тоже нужно исследовать и на них опираться. Они являются по сути первоосновой, драйверами развития любой инклюзивной повестки в компании.
Какая разделяемая ценность и какие принципы распределения издержек в ходе вовлечения? Большинство компаний не описывают. Они не понимают, какую ценность в результате получат разные стейкхолдеры. А это нужно делать, чтобы правильно и аргументированно говорить о распределении издержек с государством и обществом.
Какие барьеры и риски? Мы привыкли, что барьеры – это что-то очень материальное. Допустим, у нас в компании нет пандусов или в целом пространство недоступное. Нет, здесь речь идет о других барьерах – организационных и управленческих, о смысловых барьерах. Иногда кажется, что в компании есть все – пандусы, соответствующий софт, но не получается интегрировать людей с инвалидностью или другой уязвимой группой. Почему-то не получается. Вот здесь вот мы сталкиваемся с этими неосязаемыми барьерами. Их можно понять только в ходе качественного исследования, очень серьёзного.
Как вовлечение сопрягается со стратегическими целями развития компании? И если это несколько целей, это всё должно быть подробно описано. Большинство проектов, которые я часто вижу, никак не сопрягаются со стратегией компании. И это неправильно. А если сопрягаются, то только сугубо с целями пиар и прочее.
Как вовлечение повлияет на операционную деятельность в среднесрочной перспективе? К чему готовится? Ну и, соответственно, какова GR емкость? Каждый социальный проект сегодня должен сопрягаться с подключением функции GR.
На этом я бы хотел остановиться и в качестве последнего слова своего я рекомендую четыре книги. Кому-то, возможно, они уже известны, кому-то они покажутся достаточно лёгкими. Это вводные книги, которые сегодня очень популярны среди некоммерческого сектора социального предпринимательства, в академической среде. Они влияют на риторику, на язык и в общем-то, это всё о том, о чём я говорил. То есть достаточно инструментальная литература. Я рекомендую вам так или иначе к ней обращаться, как минимум будет полезно. Ну и в качестве бонуса приятного вы можете воспользоваться теми инструментами, которые мы уже предлагаем компаниям - словарь и курс по инклюзивной коммуникации. Он будет, я думаю, вам полезен. На вопросы я отвечу в конце, а сейчас я передаю слово Алине Юхневич - представителя компании «Пятерочка», она уже более предметно на кейсе компании расскажет о построении инклюзивных практик.
ВЕДУЩИЙ:
Алина, ждем вашу.
Алина Юхневич:
Слышно, видно, должно быть.
ВЕДУЩИЙ:
Да-да-да.
Алина Юхневич:
Так, сейчас подгрузится полный экран. Давайте я, наверное, подхвачу и всю ту теорию, которую мы с вами прослушали, попробую перевести в рамки практики и, точнее, даже открыто рассказать о том опыте, которой прошла «Пятерочка».
На самом деле мы тоже очень много готовились, изучали, слушали, но одно дело знать, а другое дело, на самом деле, пройти этот путь. И теперь мы, наверное, там выступаем не всегда позитивно, потому что мы знаем те подводные камни, которые есть. И открыто говорим рынку для того, чтобы, так скажем, обезопасить и помочь другим компаниям, которые активно вступают на путь инклюзии, пройти его более гладко, более быстрее и бесшовно внутри компании.
Давайте начнем о том, откуда вообще взялась инклюзия и почему «Пятерочка» о ней так много говорит. В компании была принята стратегия устойчивого развития еще более 5 лет назад, которая сейчас трансформировалась в программу устойчивого развития «Пятерочки» уже не только компании X5 Group, и в ней были четыре приоритета.
В одном из главных приоритетов социальной повестки выделился трек инклюзии, который включал в себя именно комплексный подход. То есть с одной стороны у нас всегда стоит клиент, с другой стороны у нас всегда есть сотрудник. И все проекты, которые мы делаем в рамках устойчивого развития, так скажем, мы пытаемся соблюсти вот этот баланс внутренних стейкхолдеров - клиент и наш человек, который работает. В чем, так скажем, индивидуальность наших проектов всех? В том, что «Пятерочка» – это розница, одна из самых крупных в стране. И когда мы говорим о сотрудниках с точки зрения человека с инвалидностью, то одно дело – это, так скажем, проложить пандус в одном из офисов, а другое дело – сделать доступную среду во всех магазинах, которых на текущий момент 21 тысяча магазинов. И когда мы начинали эти планировать стратегии, честно скажу, какой-то конкретики и плана не было, потому что это все казалось не до конца реалистично. Как раз вот наши основные стейкхолдеры, сотрудники, гости и сообщества. Что мы сделали? Конкретный алгоритм я дам в самом конце, а пока такой будет сторитейлинг по тому, как шел наш путь.
В первую очередь мы, как и говорил Игорь, начали с исследования. Не для того, чтобы, как сказать, подложить соломки, а именно понять, где наши точки роста и где наша инклюзия может быть приземлена на плоскость нашей среды и нашей особенности с точки зрения количества магазинов и людей. Мы опросили, поняли, расскажу дальше тоже об исследованиях, что мы получили, и поняли, что на самом деле почва у нас сильно благодатная, то есть мы практически не имеем каких-то барьеров с точки зрения людей, сообщества, то есть у нас сотрудники все практически оказались, ну так скажем, лояльны, адаптированы к принятию каких-то особенностей, потому что у нас действительно магазин состоит из и иммигрантов, людей с иммигрантским опытом, и из людей старшего возраста. И вот это вот всё долгое время формировало ту толерантную среду, которая как бы и способствует развитию инклюзии внутри. Мы приняли решение, что начать стоит всё-таки с клиента, потому что мы стоим на передовой, и вот у нас есть даже такое исследование отдельное, где мы видели, что куда бы человек ни шёл, в каком бы городе, с какой задачей в институт, отводить ребёнка в сад, на работу, у него обязательно на его пути встретиться «Пятерочка». Поэтому, являясь таким очень народным, очень близким магазином, мы приняли для себя решение, что магазин должен быть доступным и, главное, удобным для абсолютно всех людей, вне зависимости от того, получили ли они инвалидность временную, сейчас сломали ногу, либо они являются старшим возрастом и просто тяжело подниматься по ступенькам, либо у них есть какая-то инвалидность, которая с ними как бы постоянно. И мы начали именно с офлайн розницы, с наших магазинов.
Первое, что мы сделали, мы обучили весь персонал. Что значит обучили? Мы создали курс, который бы рассказывал продавцам, директорам магазинов, что делать, если к ним пришел человек с инвалидностью, с какой-то определенной нозологией. Процесс шел около полугода. То есть мы обучение строили каскадное. Нельзя было просто прийти, вывалить все на людей, потому что, что это значит? Это значит, что в обеденный перерыв от каждого магазина кто-то один сел, прощёлкал всё на компьютере и весело, задорно как бы все сдали тест. Чтобы это не было эффективным, обучение прям ужималось, ужималось, ужималось и шло вот такой вот воронкой. То есть сначала мы обучали эйчар, BP людей, которые нанимают персонал, потом они обучали директоров магазинов, а те уже, становясь амбассадорами в очень таком лайтовом режиме на фоне мини-фильмов, мини-памяток, доносили до людей самое необходимое знание о культуре общения.
Дальше мы пошли к курьерам. Курьеры – это такие люди, которые меняются очень часто, то есть там большая текучка, очень много людей, опять же, с эмигрантским опытом, и мы думали, что это тоже такая задачка не из простых. Но оказалось, что как раз те люди, которые работают на передовой, у них у самих был запрос. То есть они, когда мы провели обучение и спросили, а как вам курс, как вам знания, они сказали очень круто, очень здорово, потому что мы сами не знали, что делать, зачастую было большое смущение, какие-то другие негативные эмоции просто от незнания. И мы обучили практически весь персонал и у розницы, и у курьерской службы, и получили обратную связь, что это действительно людям, так скажем, облегчило и рабочий процесс, и сделало для них в обычной жизни тоже какую-то определенную услугу.
Дальше мы пошли в саму розницу. То есть мы все понимаем, что розница – это очень динамический процесс. Вот сегодня у вас пандус нормальный, а завтра прошел дождь, снег, не знаю, проехала асфальтоукладка, и у вас все порушилось. И пандус уже либо недоступен, либо там что-то еще с ним произошло. Так же со всем. Сегодня у вас проход свободен в магазин, и все могут пройти, а завтра произошла выгрузка товара, все выгрузили, извините меня, в холл, и человек уже на инвалидной коляске не проедет. Поэтому мы очень долго выверяли и строили именно сам процесс проверки аудита розницы. Он не может быть постоянным, он должен быть перманентным.
Что мы сделали? В первую очередь мы проверили магазины посредством чек-листов директоров магазинов, то есть у нас есть внутренняя процедура, когда директора каждый день по всем параметрам проверяют там, все ли хорошо с кассами, с проходами, с вывесками, с окнами, то есть чтобы магазин был приятным. В этот же чек-лист мы включили блок по вопросам инклюзии. То есть они проверяют и пандусы, проверяют свободность проходов, проверяют стеллажи, насколько там нет стеклянных предметов в проходах, и дальше по абсолютному протоколу. И если они выявляют какое-то нарушение, как, например, сломалась раздвижная дверь, или там обрушился пандус, или там перила, не знаю, там стали шершавые, они это отмечают просто в нашей системе, и заявка попадает уже в операционный отдел на исправление. С другой стороны, очень часто люди могут, ну человеческий фактор всегда позволяет находить лазейки, так скажем, обходить какие-то моменты, где-то недосмотрели, где-то устали, где-то еще что-то произошло, где-то не хватает персонала, поэтому мы пошли еще параллельно вторым путем, мы запустили шпионский клуб. То есть это люди, которые из наших абсолютно потребителей, которые ходят к нам каждый день, подключаются к системе, и они могут исполнять какие-то задачи, выполнять, которые им падают в программку, и за это получать балл лояльности. То есть это такой народный контроль. И здесь они стали таким вторым проверочным упражнением. То есть они ходят, смотрят, действительно ли панду в порядке, действительно ли поехал подходит, действительно ли персонал отзывается на какие-либо просьбы и помогает людям с инвалидностью. Потому что почему мы пошли через обучение? Потому что мы выявили, опять же, на исследованиях, что человеку нужен человек. Ты можешь там до посинения адаптировать всю среду, но в какой-то момент можешь оказаться, и так часто бывает, что этого тоже будет недостаточно. Поэтому самый лучший, самый верный способ – это всё-таки начать с людей, которые будут знать и нести эту культуру, и способствовать, осуществлять, так сказать, непосредственно помощь на местах.
Но тем не менее, магазин мы мониторим с двух сторон: со стороны директора, со стороны шпионского клуба, и это помогает нам в очень живом режиме находить и устранять недочеты, которые могут появляться в процессе жизнедеятельности магазина.
По второму треку, после того, как мы разобрались, так скажем, с клиентской стороной, мы решили, что пора переходить на уровень выше, а это именно заняться наймом людей с инвалидностью. Потому что, как все сейчас говорят, в эйчар среде есть две проблемы. С одной стороны, это квотирование и давление государства, потому что людей нужно не просто теперь формально нанимать, где-то прикрывать, а именно их надо реально трудоустраивать. И с другой стороны, людей в стране в целом не хватает. Не только на каких-то должностях специализированных, но и в целом сейчас эйчар ресурса у нас в стране недостаточно. И тогда мы пошли именно туда.
Расскажу сейчас отдельно про что такое был один день работы в «Пятерочке», но сначала мы опять же спросили наших сотрудников, а что для них есть инклюзия, как они относятся к людям с инвалидностью и как они хотели бы работать в таких вот смешанных командах. И результаты нас очень порадовали, потому что сотрудники нам сказали, что они готовы работать в таких командах, они очень лояльно относятся к людям и готовы им помогать. И мы поняли, что как раз барьеров тех, которые есть в некоторых компаниях, у нас нет.
Что им не хватало? Им не хватало знания, подхода. То есть они бы хотели, но зачастую не оказывают помощь и не вступают в коммуникацию по причине того, что не знают. И это, опять же, к вопросу обучения, обучения, обучения. То есть, с одной стороны, такое дело, как сказать, неблагодарное - люди меняются, люди уходят. Здесь главное наладить именно процесс обучения тоже динамически, то есть с каким-то повторением, с назначением людей при трудоустройстве, когда они приходят в магазин устраиваться, им назначается там обязательное мини-обучение. И дальше там какая-то валидация в течение года рабочего, чтобы сотрудники не теряли определенное знание. Если посмотреть на вторую часть, то что касается трудоустройства, то вот у нас есть несколько целевых аудиторий. Их очень даже много, я бы сказала, с точки зрения эйчара. И в том числе вот мы с вами видим, что у нас есть и люди 60+, и иностранцы, и люди с инвалидностью. Это все абсолютно равнозначные персоны для нас с точки зрения возможности трудоустройства. То есть мы как бы не выделяем, а мы говорим о том, что инклюзия - это как раз про равные права. То есть абсолютно все люди из тех, которых вы видите, они могут трудоустроиться в торговую сеть.
Но вставал вопрос, как их трудоустраивать, с какими нозологиями, по какому принципу, с какими регламентами. На это все были такие открытые вещи. С одной стороны, конечно, можно было бы взять чью-то схему с рынка, но мы поняли, что так как у нас и среда уникальна, и бизнес сам по себе такой операционно большой, то нужно на практике найти какое-то свое собственное решение. И мы запустили проект, который назывался «Один день в Пятерочке». Я потом могу показать ролик, если у нас останется время. И он складывался по следующему принципу.
Мы брали 26 человек с различными нозологиями и проводили их совместно с наставниками, с психологами на работу в «Пятерочку», то есть по четыре часа. Это была оплачиваемая экскурсия, то есть с одной стороны у нас люди знакомились и проверяли себя, насколько они подходят к работе в магазине, с другой стороны наш персонал тоже понимал, наблюдал и мы делали какие-то определенные выводы, а какие на зоологии нам подходят, а на какой рабочий день мы можем брать этих людей, как определять коммуникацию с директором магазина? Какие вообще магазины подходят, а какие не подходят? Потому что где-нибудь там магазин в лесу у нас или наоборот там у обочины куда не добраться, ну, наверное, он не подойдет людям с инвалидностью.
И здесь мы уже после этого эксперимента собрали полную эмпирику, которая дала нам понимание, какие люди нам подходят. Мы сосредоточились на определенной группе людей с определенной нозологией и уже стали концентрироваться на наборе через службу занятости именно через эти параметры.
Какие еще получили, так скажем, знания? На самом деле есть ряд таких вопросов, которые мешают трудоустройству, и это не вина работодателя, почему он их массово не нанимает, а есть объективное знание. То есть первое, это все психологические вопросы. То есть люди привыкают к иждивенческой позиции, вот это вот выученная беспомощность, о которой очень много говорят. И это на самом деле факт. То есть, есть люди, которые приходили и начинали манипулировать. То есть я не могу, помогите мне и так далее. Что здесь нужно и можно делать? Здесь мы пошли через путь психолога, то есть когда кандидаты отбирались, у нас присутствовал специальный психолог, который определял готовность человека реально выходить за свои паттерны и стремление его к новой жизни.
Вторая страшная вещь – это потеря компенсации. То есть там они знают, что у них всегда есть их пособие, когда они выходят работу, они могут потерять пособие, соответственно, они не знают, они останутся работать, нет, а как бы денег уже не будет.
Что здесь мы делали? Ну, во-первых, мы объясняли о том, что заработная плата, она в целом гораздо выше, чем пособие, плюс у вас идет трудовой стаж, и плюс вы интегрируетесь в экономику, соответственно, так же, как и все люди, всегда сможете найти там на рынке труда не в одной компании, но в другой работу, если у вас наработан стаж и какой-то навык. А третье, мы боялись того, что будет негативная связь обратная от наших покупателей, потому что тоже не все психологически готовы.
И здесь мы провели большое исследование отдельно уже на покупателях, опрашивали их, как они относятся, что нужно сделать. Поняли две вещи. Первая, в целом у нас народ толерантен. Ну если это уж не совсем как-то на них отражается с точки зрения сервиса или там, не знаю, какой-то эстетической функции. И второе, им нужны опознавательные знаки. То есть, опять же, это вопрос внутренней коммуникации. То есть, мы сделали униформу, у нас все работают в жилетках абсолютно, в идентификационных магазинах. Здесь мы сделали жилетки, на которых написали, что человек имеет ограничения, допустим, по слуху, и то, что вы его зовете, он не оборачивается, это не то, что он вас игнорирует, а просто есть такая вот особенность. И это, в принципе, сняло этот барьер, потому что люди понимают. Такие же вещи использует «Ашан», они ставят там вывески, таблички, это полностью, там в Яндексе знают, уже есть маркировка, это полностью снимают какие-то либо отрицательные отзывы от покупателей.
Ну и есть, вот мы говорили о том, что большое количество молодежи, они трудоустроенные с инвалидностью, но здесь есть и обратная сторона. Родители очень часто не хотят, чтобы их дети на самом деле работали, то есть в глубине души там где-то. Все привыкли к этой определенной схеме опекунства, зависимости, жертвенности, и поэтому родители очень часто переживают и не отпускают на самом деле детей работать, ну как детей лет уже 18-20-22, но для них они остаются все равно детьми. И поэтому мы здесь делали сопровождение наставника, делали возможность графика очень короткого, там 4 часа, допустим, на первом этапе, чтобы родители посмотрели, и постепенно привыкли к новой, так скажем, жизненной парадигме, что их ребенок теперь работает.
По итогам у нас осталось девять человек, которые были трудоустроены, но впоследствии четыре приняли решение не продолжать сотрудничество. Ну то есть кому-то, опять же, было тяжело, у кого-то были психологические откаты.
И, с одной стороны, цифра-то небольшая, мы же все понимаем, это далеко не проквотирование. Это вопрос про эмпирику. То есть сейчас мы абсолютно точно имеем для себя понимание, с какими параметрами, каких людей мы можем выпустить на массовый найм. И вот с этим сейчас мы как раз работаем через центры занятости. Ролик покажу чуть позже тогда. Наверное, обратную связь тоже показывать...
Муж:
Вы только что были в зале. Вы увидели что-нибудь странное?
Бабушка:
Не странное, а приятное.
Муж:
А что именно?
Бабушка:
А то, что вот эти вот ребята, они помогают, делают всё. Это было очень приятно. Наконец-то что-то повернулось к ним лицом - государство или к тем, кто занимается этим. Это очень хорошо.
Муж:
А помимо вот эмоций, что это хорошо, положительно, вы считаете, что это для нашего общества, правильно, что магазины этим занимаются?
Бабушка:
Правильно. Правильно. Ну, может быть, еще есть какие-то цели, но то, что в магазине, что они адаптируются, что они есть. Это очень правильно.
Алина Юхневич:
Ну вот мы с вами видим, это абсолютно, так скажем, естественно пойманный наш покупатель, которому задали спонтанные вопросы, потом мы проводили чуть более глубокие анализы и поняли, что на самом деле наши покупатели поддерживают историю об интеграции людей с инвалидностью в повседневную операционную деятельность магазинов.
Давайте теперь попробую алгоритмировать все, что мы с вами проговорили на наших примерах, с чего стоит начать работу. Первое, это нужно поисследовать все-таки среду, потому что любой бизнес, он уникален с точки зрения масштаба, культуры корпоративной и вообще тех элементов, куда может быть встроена инклюзия.
Дальше еще очень интересный момент, это вот второй этап, это вовлечение менеджмента и формирование амбассадора. Сначала, так скажем, когда мы начинали проект, мы были таким драйвером этого проекта, то есть отдел ESG устойчивой повестки бились с этим в одиночестве, потому что никто не понимал ценности в компании. Тогда мы провели большой вебинар совместно с «Everland», привели людей с инвалидностью, чтобы от первого лица послушать обратную связь и посмотреть, как же это на самом деле на стороне клиента, отношение целиком вообще изменилось. То есть подключилась вся компания, весь топ-менеджмент, то есть равнодушных просто не осталось. И, конечно, на этих рельсах, на этих колесах все ехало гораздо легче и быстрее. Поэтому создавайте внутри такую систему амбассадорства, создание ее можно инфлюенсеров через какие-то корпоративные мероприятия и через донесение бизнес-показателей.
Опять же, когда мы показали на цифрах, что это 11%, допустим, жителей страны, что они получают стабильный заработок в виде пособия, они готовы его тратить, готовы его тратить в том магазине, где им будет удобно. Все поняли, что это еще один приток денег. Как бы это цинично не звучало, но бизнес все равно любит цифры. И когда вы донесете до них какие-то конкретные ценности в виде бизнес-показателей, будет все гораздо легче. С другой стороны, это штрафы по квотам, это недобор персонала. Здесь стоит доносить цифры, законодательные процессы и все остальное, чтобы у всех сложилось представление, что это не просто какой-то там, не знаю, вишенка на торте, очередной проект устойчивого развития, как все там хорошо. Нет, это абсолютно такие конкретные вещи, которые бизнес может монетизировать.
Дальше мы разработали стратегию, ну вот у нас получилось, что у нас уже была стратегия устойчивого развития, и она идеально туда встроилась. Дальше мы обучили персонал, адаптировали среду и сервисы внутри компании и встроили абсолютно все в бизнес-процессы. Инклюзия она не может жить где-то в одном месте. Вот здесь есть инклюзия, а вот здесь у вас ее нет. Вот это вот отдел устойчивого развития, а вот здесь нет. Инклюзия это про то, когда у вас абсолютно весь бизнес, все процессы учитывают какой-то определенный параметр. У нас это встроено и в операционную деятельность, потому что операции, когда проектируют магазин, они сверяются с определенными параметрами. «Мобилка» сейчас адаптируется в этом направлении, там был большой перезапуск, пока она не была инклюзивная, но вот сейчас они как бы доработали, и уже когда перезапускали ее, опирались тоже на принцип инклюзивности. Это и эйчар, это и маркетинг, который должен учитывать это с точки зрения, допустим, субтитров и прочих мелочей.
Ну и, в общем-то, это внутренний план коммуникаций внутренних и внешних, когда вы уже все поделали, и внутри, и снаружи, это нужно поддерживать. Во-первых, рассказывать это во внешнем поле, чтобы люди понимали, знали, вдохновлялись. С другой стороны, это внутренние коммуникации, потому что, опять же, люди внутри компании меняются, у всех очень динамичный ритм жизни, и им нужно все время напоминать о каких-то определенных вещах, и мы это делаем посредством тоже вебинаров, определенных дней внутри компании, памяток, каких-то кейс-историй, которые мы рассылаем, чтобы люди, так скажем, закрепляли и не теряли эту привычку что мы живем именно в инклюзивном мире.
У нас на этом все. Я, наверное, ролик не буду показывать.
ВЕДУЩИЙ:
Да, мы можем его просто интегрировать потом в запись или дать ссылку также потом тем, кто зарегистрировался, еще раз его посмотрят.
Ну, коллеги, спасибо вам большое вообще за такое освещение темы. У нас были вопросы, но, я думаю, уже Игорь даже смог ответить на них. Если у кого-то еще появились вопросы, я думаю, мы можем подождать чуть-чуть.
Но я хотела бы подвести итог, что мы начали с обширной такой... Армен нам представил и мировую практику, и российскую, Игорь нам также продолжил и подсказал какие-то даже шаги, как можно это сделать. А Алина нам уже показала, как на практике это действует.
Вот, ещё раз хотела бы всех поблагодарить, потому что тема, на самом деле, действительно очень вовлекает, интересная, и она настолько трансформировалась за последние даже не десятилетия, а несколько лет, что мы начинали, можно сказать, с каких-то минимальных практик, а сейчас уже начинаем смотреть, как бы это сделать ещё лучше, даже ещё лучше не на западной практике оборачиваясь, а оборачиваясь на Российские непосредственно. И начинаем думать, как бы это переложить уже, как сказал правильно Игорь и Армен, что нельзя привнести инклюзивные практики на Бурятию и на жителей московского региона. Они не могут быть одинаковы. Они должны быть, естественно, учитывать все интересы и интересы именно той целевой аудитории, на которую они направлены.
Коллеги, если у вас есть что-то еще дополнить, просим. Также, если есть вопросы, тоже просим их задать. Армен, Игорь, я думаю...?
Армен Тадевосян:
Я хотел еще раз поблагодарить за представленную площадку и хочу сказать, что в общем и целом комьюнити людей, которые занимаются этой тематикой, оно тоже достаточно особенное. То есть это люди с горящими сердцами, и они делают не только свою работу, за которую им платят деньги, но и посвящают полностью себя вот этой деятельности. Потому что, работая с определенными категориями людей, нельзя оставаться равнодушным и холодным. То есть ты потихоньку через себя проносишь все их боли, все их кризисы и таким образом становишься частью этого. Поэтому мы всегда открыты к дискуссии, к коммуникации. Вот в частности «Everland», они делают прекрасную, большую работу. Я знаю, что у них опыт более 8 лет на российском рынке. И это люди, которые привносят большие инклюзивные практики для российских компаний, помогают им и поэтому мы остаемся на связи и большое спасибо вам за внимание.
ВЕДУЩИЙ:
Вам спасибо, Армен, Алина, Игорь. Еще раз спасибо большое от наших слушателей. Тоже вот в чате пишут, что все было очень интересно, очень увлеченно, и в принципе тема достаточно затрагивает, я думаю, нас всех. Спасибо вам, коллеги. И я надеюсь, вы пришлете нам презентации, чтобы мы могли их как-то распространить, и чтобы люди также могли перейти по ссылкам и, возможно, связаться с вами. Спасибо вам большое.
Армен Тадевосян:
Спасибо, до свидания.
Расшифровано при помощи искусственного интеллекта «Таймлист» и обработано человеком для публикации


